(Примечание переводчика: Подобные ситуации не менее часто встречаются в еврейских школах на пост.советском пространстве)
Автор: Ари Нейман
По материалу: Sometimes a Lion
Молодые люди с инвалидностью не могут нормально учиться в Jewish Day Schools – Еврейских дневных школах (довольно распространенная проблема во всех подобных заведениях, в том числе в Европе и на постсоветском пространстве – прим. переводчика). Настало время сосредоточиться на инклюзии – и выразить протест скептикам, которые говорят, что инклюзия невозможна.
В феврале еврейское сообщество отметило Месяц Информирования и Инклюзии по Вопросам Инвалидности — Disability Awareness and Inclusion Month (JDAIM). Это ежегодная возможность заявить о нашей готовности работать над полным включением евреев с инвалидностями во все сферы жизни нашего сообщества. В этом направлении еще нужно проделать множество работы, и последние события показали, что не все местные еврейские общины готовы этим заниматься.
Отмечая начало этого месяца, раввин Митчел Малкус, директор престижной еврейской дневной школы Charles E Smith, опубликовал пост на школьном веб-сайте. В начале этого поста коротко говорилось о JDAIM, а затем рабби быстро перешел к тому, что родители должны лучше анализировать свои желания, приведя в качестве примера «притчу» о родительнице, которая «искренне считала, что школа делает все возможное чтобы его дочь смогла там учиться… [и] после нескольких лет размышлений поняла… что было бы гораздо лучше, если бы она выбрала для своей дочери специальную школу со «специальными ресурсами»».
Рабби предлагает создать разные типы специальных школ, которые могли бы специализироваться на обучении учеников, которых он не очень-то приветствует в обычных школах, заметив, что, например, «одни школы могут специализироваться на обучении детей с дислексией, СДВГ и различными языковыми проблемами, [в то время как] другие могут принимать детей с обсессивно-компульсивным расстройством, расстройствами сенсорного восприятия, аутизмом и синдромом Аспергера». Послание понятно – рабби Малкус хочет, чтобы «эти» ученики занимались где-то за пределами его освященных, нормальных классов.
Конечно, не все ученики смогут преуспеть в каждой конкретной школе. Но различия в возможностях не такая уж непреодолимая вещь, как законы физики, – здесь речь о сознательном выборе конкретных учебных заведений, которые при распределении финансов решают, что потребности детей с инвалидностью не являются для них приоритетными. Светские школы обязаны обеспечивать доступную среду для учеников с дислексией, СДВГ, обсессивно-компульсивным расстройством, аутизмом и другими видами инвалидности, на которые ссылается рабби Малкус. И часто они получают гораздо меньше финансирования на нужды одного ученика, чем школы наподобие школы рабби Малкуса. Значит ли это, что по своей природе иудейские учебные учреждения хуже светских приспособлены для обеспечения образования высокого уровня? Не думаю, что дело в этом, – скорее в приоритетах, которые выбирает руководство школы.
Вопросы инклюзии должны восприниматься всерьез, а не считаться не заслуживающими внимания наивными идеями. Мы должны понимать, что, отказывая в инклюзии, мы тем самым говорим ученикам-иудеям с инвалидностью, что мы не желаем видеть их частью своего сообщества, и осознавать все последствия подобного заявления. Очень часто дети и их семьи решают, что если еврейское сообщество не хочет видеть их своей частью, то этому сообществу нет места и в их сердце, что разрывает их связь с иудаизмом. В лучшем случае это означает пожизненное настороженное отношение к еврейским общинам. В худшем случае это делает учеников-инвалидов еще более уязвимыми к насилию и дает им посредственное образование – ведь есть много свидетельств, что ученики с различными видами инвалидности показывают в сегрегированных образовательных системах худшие результаты. Вы не поможете детям-инвалидам удовлетворить свои потребности, выбрасывая их из наших школ, – вы просто перекладываете задачу по удовлетворению потребностей на плечи других.
Пост, которым рабби Малкус решил начать разговор об инвалидности, прекрасно показывает те барьеры, которые существуют в иудейском образовании для учеников-инвалидов. С одной стороны, типично-доброжелательное отношение к ученикам без инвалидности, с надеждой на то, что они смогут преодолеть все сложности – с надеждой, существующей до тех пор, пока не станет понятно, что эти «сложности» непреодолимы. Ведь по отношению к ученикам-инвалидам у рабби Малкуса совершенно противоположный подход – прежде всего, он хочет показать своему сообществу, что все вопросы инклюзии в его понимании сводятся к тому, что ученикам с инвалидностью не место в его школе.
Как специалист по вопросам прав инвалидов и одновременно еврей-инвалид, который вынужден был уйти из еврейской дневной школы после получения одного из диагнозов, упомянутых рабби Малкусом, я рассматриваю его заявление как индикатор более широкой проблемы того, что еврейские дневные школы отказываются рассматривать обучение учеников с инвалидностью – особенно с когнитивной и поведенческой инвалидностью – в качестве одного из своих приоритетов.
Это проблема существует уже давно – у нас есть множество примеров из жизни частных светских школ, когда администрация учебных заведений делает подобные заявления, «рекомендуя» родителям детей с инвалидностью забрать детей из этих школ. Мы знаем, что происходит в подобных случаях.
Благодаря исследовательской литературе, посвященной инклюзии, вы можете узнать, что одним из главных факторов, определяющих возможность ребенка учиться в инклюзивном классе, является отношение учителей и администраторов к этому ребенку, причем тяжесть инвалидности ребенка здесь не играет принципиального значения. Также известно, что уровень инклюзии в государственных школах отличается от штата к штату, от города к городу, так что вопросы инклюзии связаны не столько со степенью инвалидности ученика, столько с вопросами политики в области образования.
Увы, подобных исследований, посвященных еврейским школам, нет. Потому что мы не занимались их проведением. Но при этом мы знаем, что евреи (и иудеи) с инвалидностью очень редко участвуют в других молодежных еврейских (и иудейских) мероприятиях, например, редко посещают летние детские лагеря отдыха. Местным спонсорам и руководителям подобных программ стоит собрать данные о том, насколько инвалиды могут получить поддержку в их школах, лагерях и различных проводимых ими программах, причем организовать эти исследования так, чтобы на вопросы могли отвечать сами инвалиды, и предоставить эти данные в доступном формате, не нарушая при этом анонимности респондентов, чтобы все члены сообщества могли видеть насколько инклюзивны те или иные программы и заведения.
Более того, хотя согласно Закону о Правах Американцев с Инвалидностью (Americans with Disabilities Act) религиозные школы вроде Charles E Smith, к сожалению, не имеют тех же законодательных обязанностей, как светские учреждения с сопоставимыми ресурсами и задачами, недискриминационного отношения к инвалидам в еврейских школах должны требовать спонсоры и другие руководители общин. Следует также создать независимую, понятную процедуру на те случаи, когда вопросы дискриминации нельзя рассматривать в суде, потому что антидискриминационное законодательство не покрывает религиозные программы, школы и детские лагеря.
Заявление рабби Малкуса является показателем куда более серьезной проблемы, и мы должны дать ясно понять еврейским школам, что они должны быть готовы принимать и создавать инклюзию для всех еврейских детей. Рабби мог бы вспомнить то, что он узнал из собственного раввинского образования, а именно слова Р. Гиллеля, которые тут написал в Пиркей-авот: «Аль Тифрош Мин Хацибур» – «Не отделяйте себя от сообщества». Мы должны признать, что евреи-инвалиды являются частью нашего сообщества – и что, защищая сегрегацию, наши лидеры отказываются от еврейских ценностей.
_________
На русский язык переведено специально для проекта Нейроразнообразие в России.
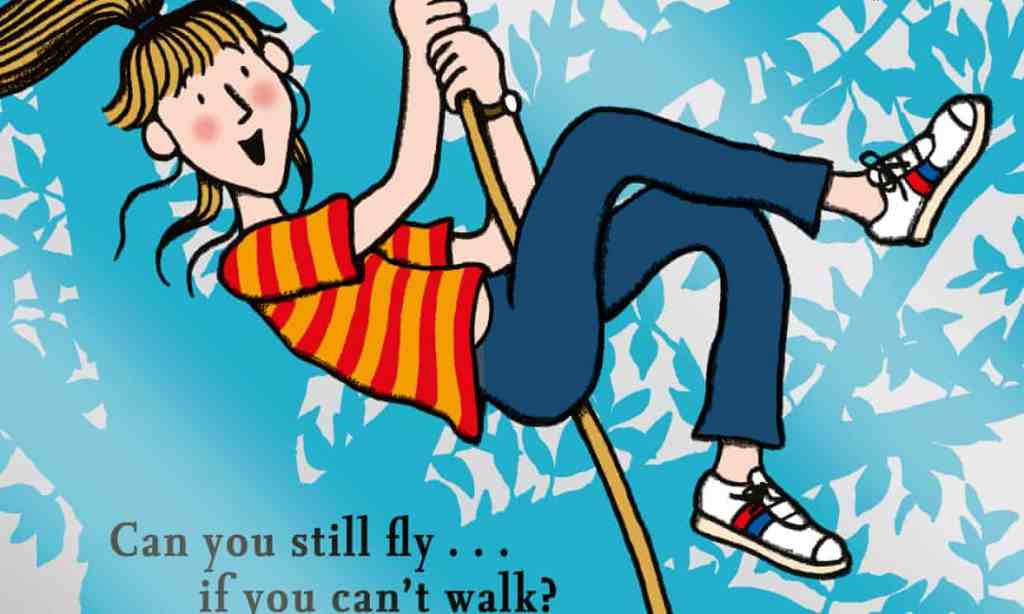


 Ненавижу, когда я рассказываю людям о своей инвалидности, а они отвечают: «мы будем за тебя молиться».
Ненавижу, когда я рассказываю людям о своей инвалидности, а они отвечают: «мы будем за тебя молиться».