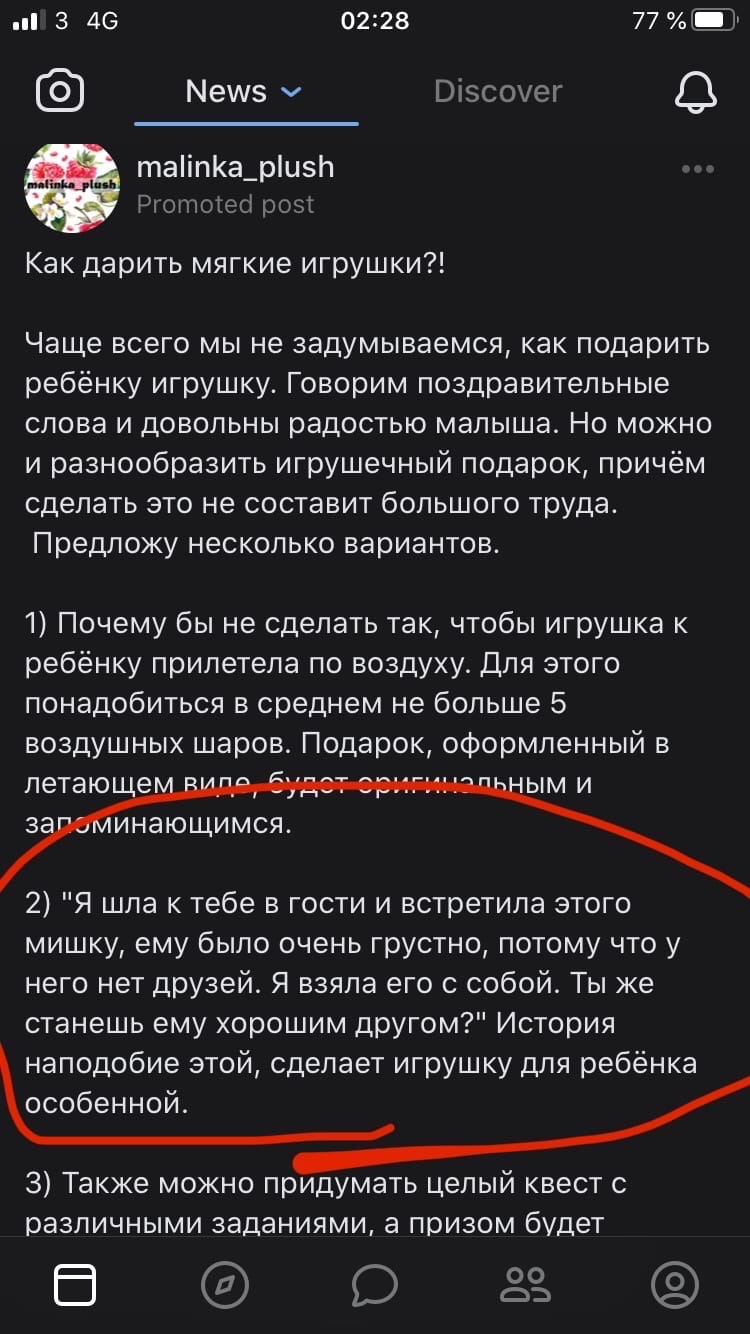Автор: Лина Экфорд
О том, как иногда полезно послать нахрен все нейротипичные нормы. И о том, как нейротипичные советы иногда просто уничтожают полезные навыки и ухудшают функционирование.
У меня была эхолалия с детства. Использовалась в качестве стимминга, это просто было приятно. Меня отучали. Я заметила, что на эхолалию реагируют сильно, чего-то требуют. В итоге научилась контролировать громкость, если рядом есть другие люди. Мне говорили, что «так делают только сумасшедшие», в итоге годам к 11 обычная эхолалия — повторение только что услышанных фраз или слов — пропала полностью. Я научилась это подавлять. Отсроченная эхолалия, эхолалия в качестве стимминга, вербальный стимминг, — это осталось, но в основном — когда никто не видит и не слышит.
На данный момент у меня нет никаких проблем с речью. Но во время сильной сенсорной перегрузки они появляются, и, чтобы отвечать на обычные повседневные вопросы, требуется прикладывать огромные усилия и получается это не всегда. Хорошо, что у меня не очень выраженные проблемы с сенсорной чувствительностью, и такое случается крайне редко. Но когда случается — крайне неприятно, что не можешь выслушать вопрос, понять, удержать в памяти и ответить. Даже если вопрос несложный. Надо очень, очень сильно напрягаться.
И вот мне под тридцатник, и тут доперло, что надо было не долбиться лбом в стену, а использовать ресурсы с умом.
Разумеется, с Айманом я мало подавляю стимминг и вообще веду себя естественно.
И вот, в последний раз, когда при сенсорной перегрузке у меня начались проблемы с речью, месяца полтора назад, Айман сказал, что я разговариваю при помощи эхолалии. И я поняла, что да, — мне задают вопрос, я повторяю его в полный голос, несколько раз, затем либо отвечаю, либо повторяю более настойчиво и действиями показываю, что согласна.
Позже я поинтересовалась, часто ли я это делаю, и Айман ответил, что редко, если очень устала или перегружена.
И вот тогда-то до меня и доперло)
Большую часть жизни я упорно пыталась научиться подавлять проблемы с речью традиционными нейротипичными способами. Полностью подавлять эхолалию, вербальный стимминг. Пытаться просто молча вдуматься в то, что мне говорят и сформулировать ответ в свободной форме. Когда я сильно уставала или была перегружена, это не работало. Когда я не знала, что аутична, такие ситуации просто заставляли меня испытывать сильный стресс и пытаться сделать вид, что все нормально. Когда я узнала — я просто поясняла, что сейчас у меня проблемы — я плохо понимаю речь/плохо говорю, и мне нужно отдохнуть.
И вот, я выяснила, что все это время у меня был ЛЁГКИЙ способ говорить и понимать речь, когда с этим возникают проблемы. ВСЕ. ЭТО. ВРЕМЯ.
Способ, которым я не пользовалась, потому что «так не принято», потому что «выглядеть нормально» — важнее, чем нормально функционировать. Потому что «как бы что не то не подумали» — важнее, чем удобство. Потому что ради этих гребаных ценностей общества мне запретили использовать мою речь такой, какая она есть. Она была слишком «странной».
Знаете, что происходит с моими речевыми навыками при значительной сенсорной перегрузке? Именно с самой речью у меня сейчас все хорошо, поэтому она страдает не всегда. Понимание речи на слух — всегда. Непосредственно с распознаванием звуков у меня нет проблем — их всегда было не очень много, теперь они исчезли. Я могу услышать фразу в точности, могу повторить ее. Понять — не могу. Удержать в памяти — тоже. При попытках справиться с этим «обычным» способом, я могу до  пяти раз подряд
пяти раз подряд просить повторить вопрос. Потому что я не понимаю и не запоминаю, а при этом мне ещё надо контролировать речь, подавлять эхолалию — то, что я 25 лет делаю это на автомате, — не значит, что это «естественно» и не жрет ресурсы, это только значит, что меня так запугали в детстве, что я все ещё боюсь наказания за «странное» поведение и напрягаюсь, где не надо. Так что я обязательно бросаю остальные дела. Если я шла, то останавливаюсь, если есть, где сесть, — сажусь, и пытаюсь понять, о чем разговор. В итоге я могу понять вопрос и ответить. Могу не понять и не ответить. Могу понять, но не ответить, потому что на это понимание было вбухано столько сил, что речь окончательно «отвалилась».
просить повторить вопрос. Потому что я не понимаю и не запоминаю, а при этом мне ещё надо контролировать речь, подавлять эхолалию — то, что я 25 лет делаю это на автомате, — не значит, что это «естественно» и не жрет ресурсы, это только значит, что меня так запугали в детстве, что я все ещё боюсь наказания за «странное» поведение и напрягаюсь, где не надо. Так что я обязательно бросаю остальные дела. Если я шла, то останавливаюсь, если есть, где сесть, — сажусь, и пытаюсь понять, о чем разговор. В итоге я могу понять вопрос и ответить. Могу не понять и не ответить. Могу понять, но не ответить, потому что на это понимание было вбухано столько сил, что речь окончательно «отвалилась».
Я напрягалась, а все, что мне было нужно — расслабиться. Если мне не нужно тратить силы на полный контроль над своей «странной» речью, происходит следующее. Я повторяю услышанное. Могу повторить несколько раз. Так фраза остаётся в памяти и спокойно обрабатывается. Ответ можно дать прямо сплошняком с фразой, это сильно все упрощает, не надо формулировать самостоятельно. Что-то вроде: «пойдешь сейчас за котлетами?» — «пойдёшь сейчас за котлетами? Пойдёшь сейчааас… за котлетами… За котлетами, за котлетами, котлетами, да, ты пойдёшь за котлетами, да, я домой, мне плохо». Самое важное — это НЕ НАПРЯГАЕТ. Я могу продолжать идти/стоять/складывать вещи в рюкзак и так далее. Это не требует дополнительных ресурсов. Это не ухудшает состояние. Это легко и естественно. Мои проблемы с пониманием речи при сильных сенсорных перегрузках оказались мелкими и незначительными, как только я перестала решать их «как все нормальные люди».
У нас отнимают возможность развиваться естественным образом. У нас крадут инструменты, необходимые для того, чтобы справляться с повседневными задачами естественным для нас способом. Мое поколение, как и многие прошлые и будущие поколения аутистов — травмированные и искалеченные люди, которым не позволяют быть собой. В то время, как нейротипикам не только дают развиваться естественным для них способом, но и помогают им, используя подходящие для этого методики.
Мы не знаем, как выглядит здоровый аутист. Которого не ломали с детства, не стыдили и не принуждали.
Я почти до тридцати лет думала, что моя эхолалия была только приятной и плохо управляемой забавной штукой, которую надо усиленно контролировать. Теперь понимаю, что, если бы меня не принуждали подавлять эхолалию, — у меня было бы в разы меньше проблем с коммуникацией и речью в детстве. Сколько ещё таких вещей я не знаю? Сколько таких вещей не знают нейротипичные «специалисты» и родители?